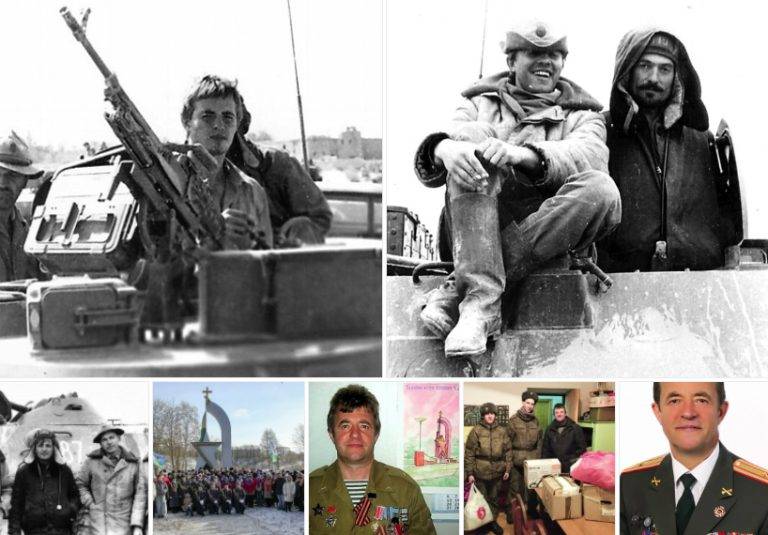Взлёт Ивана Афанасьевича пришёлся на горбачёвский период. Говорят, генсек страны одно время боготворил его. Спору нет, среди публицистов Васильеву в перестроечное время не было равных. Для многих он был примером. Мне довелось участвовать в «круглом столе», организованном в Борках журналом «Журналист». Помню, с какой жадностью ловили все каждое слово Ивана Афанасьевича. Говорил он доходчиво, убедительно. В последние годы в статьях его всё больше появлялись назидательные нотки, ожесточение, обида. Понимая, что жить, как раньше, уже нельзя, он не принимал происходящую ломку всего и вся: «Всё перевёрнуто вверх дном. Чистое и доброе ушло вниз, отлёживается на дне, копится там, набирается сил, а дурное и поганое плещется наверху, орёт, кривляется, смердит», – писал он.

Даже пережив крушение демократических иллюзий, мне трудно понять и принять его максимализм. Нельзя отрицать ради прошлого и то, что свершилось и вершится ныне. Ведь нет худа без добра. Познание российского либерализма, так сказать, изнутри было для меня, тогдашнего народного депутата России, полезным хотя бы потому, что теперь я имею от него противоядие, могу предостеречь молодых, менее искушённых: «На эту щедро унавоженную «баксами» почву не ступайте! Русская берёзка на ней не вырастет. Нам нужно идти своим путём. С учётом наших традиций, нашего прошлого».
Иван Афанасьевич выстрадал это на собственном опыте: «Убеждения – штука динамичная. Они в постоянном движении. Они складываются, углубляются, усложняются. Они не раз и навсегда данные, бывает, меняются на совершенно противоположные. Жизнь, подобно молоту, непрестанно бьёт по ним, либо спрессовывая, закаляя, выковывая необычайную прочность, либо деформируя, а то и разбивая «вдребезги». И его же слова: «Написал эти обидные для молодых строчки, а сам думаю, почему старики всегда ворчат, что вот, дескать, при нас было густо и сладко, а после нас жидковато и пресновато? Не оттого ли, что, как говорится, сам варил, сам хлебал? Отчасти, конечно, так, но в целом, я думаю, причина во времени. Времена разные, в этом суть».
Перечитывая его очерки и повести 70-х — начала 80-х, лишний раз убеждаешься: именно человек труда, пахарь, сеятель, был в центре творчества Ивана Васильева. «…Я люблю эту землю. Неброскую берёзовую страну. Тихую мою Родину. Я люблю на ней всё: грустные околицы деревень, грязные большаки и звенящие при первом морозце тропинки, серое чернолесье с багряным листом и затяжные дожди, голубые озёрные дали и нивы-рушнички. Я люблю её людей, трудолюбивых, радушных, отважных», – признаётся Иван Афанасьевич. А с какой трогательной нежностью пишет он о матери, Аксинье Васильевне: «Устами матери опоэтизированы природа и труд. Во всём она умела видеть красоту: и в обложных дождях, и в белых сумётах, и в цветении сада, и в отбеливании холстов, и в молотьбе цепами ржаных снопов, и в трёпке мягкого, струистого льна. Она находила такие слова, такие присказки, такие поверья, после которых мне непременно самому хотелось пойти с отцом топить дымную ригу, взять отрывающий руки кленовый цеп и молотить в лад со всеми снопы, сесть на грохочущую мялку и до одури в голове гонять по кругу лошадей. И удивительно: не чугунная тяжесть рук и ног, не тошнотворное кружение в голове запоминалось после работы, а поющая в сердце радость, словно его, ребячьего сердца, коснулось что-то нежное и красивое. Теперь я понимаю, что в нас от отцов, а что – от матерей. Отцы более прозаичны, они учили нас навыкам и трезвому смыслу, матери – поэзии. Хранительницей красоты в доме была мать».
Васильев оказался прозорливее многих из нас, годившихся ему в сыновья. Он отчётливо предощущал беды, которые обрушат либералы на русскую деревню, на всю Россию-матушку. Так ведь и произошло. «Чем больше я, неся в себе веру в добро и правду и имея целью служение добру и правде, входил в мир чиновный, вникал в его заповеди, тем больше убеждался в его перерождении. И убеждали в этом меня вы, беспринципные «выгодники». Вас становилось гуще и гуще, вы пожирали мир веры и правды, как гусеницы капусту. Меня отвратило от вашего мира, он перестал быть для меня магнитом, он уже не притягивал интеллигентностью, тянул лишь чиновной выгодностью, а это было не для меня. Но и вернуться в свой исходный, крестьянский мир, уже не мог, я только отступил к нему – настолько, чтобы не оборвалась совсем пуповина, чтобы не перестала она питать душу народной нравственностью, единственным противоядием от разлагающей выгодности мира чиновного».
… Хоронили писателя в сосновом бору на великолукском кладбище. Люди стояли с непокрытыми головами. Звучали слова прощания от Псковской, Тверской, Великолукской администраций. Но не было на проводах тех, кому Васильев был нужен на заре перестройки.