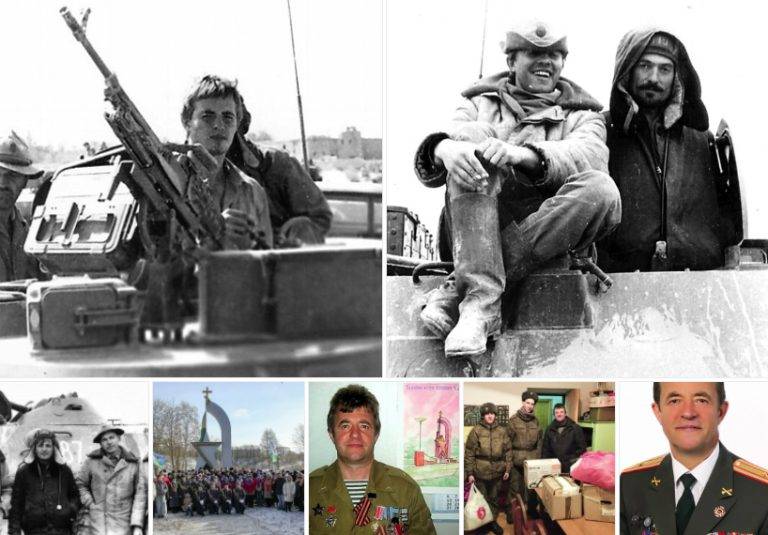В один из дней августа 1942-го стрелковый батальон (всего в нём из двухсот человек оставалось полсотни бойцов) атаковал немецкую траншею перед деревней Полунино. Бежали под огнём немецких пулемётов по полю, устланному трупами ранее наступавших здесь бойцов. Я, командир взвода артбатареи, тоже бежал в этой цепи наступавших – вместе с единственным оставшимся в живых телефонистом. Остальные четверо моих связистов и разведчиков лежали где-то рядом, на этом поле. Их убило в предыдущих бесплодных попытках взять растреклятую немецкую траншею.
Мы, артиллеристы, поддерживали наступающую пехоту огнём. Хотя это слишком громко сказано: поддерживали! Бегу и прекрасно знаю: снаряды, которые я могу использовать в этом бою, строго лимитированы. Они – «на крайний случай». На отражение возможных немецких контратак.
Метров за двести до немецких позиций к их пулемётному огню присоединились минометы. Мины густо рвутся вокруг нас. Мы бросаемся на землю. Я втискиваюсь между двумя трупами. Они хоть как-то защищают меня от осколков и пуль. Но вот разорвавшаяся рядом мина поднимает в воздух один из трупов. Падая, он накрывает меня с головой. За шиворот сыплются черви, а из пронзённого осколками раздутого, вспученного живота в нос бьёт концентрат отвратительного зловония. За последние дни мы привыкли к этому тошнотворному трупному смраду. На поле он всюду. Но эта концентрированная порция чуть не лишила меня сознания.
Удалось совладать с собой, и это было очень хорошо. Потому что оставшиеся в живых пехотинцы уже начали отползать назад, на исходные позиции. А под прикрытием своего миномётного огня из растреклятой этой траншеи уже выскакивают немцы. Разворачиваются и густой цепью бегут в контратаку. Догнать их нас, придавленных к земле разрывами мин, ничего не стоит. Очень скоро они расстреляют наших ребят из автоматов в спины, прорвут наш хлипкий передний край и выбьют остатки батальона подальше от Ржева. Надо спасать положение! Кроме меня, сейчас это сделать не сможет никто.
– По траншее, прицел – меньше четыре, батарее-е-е-я, огонь! – телефонист эхом передаёт мою команду на батарею.
Чудо: телефонный кабель не порван минами. Наши снаряды рванули, как и положено, там, куда подбежали немцы. Большинство из них уничтожены, остальные спешно отползают обратно, в траншею. Контратака отбита!
Остатки нашего батальона, потеряв четырнадцать человек убитыми и ранеными, благополучно прыгают в свою траншею. Все потные, в грязи, измождены беготнёй по трупному полю. Валимся на дно своей неглубокой позиции. Комбата, младшего лейтенанта (он единственный уцелевший офицер во всем батальоне), вызывает по телефону командир полка:
– Захватили траншею? – Не смогли. Залегли под сильным огнём. Вернулись на исходную. – Как вернулись? Ты с ума сошёл? Немедленно возобновить атаку! Чтоб сегодня же батальон взял немецкую траншею! – Конечно, ни в какую новую атаку жалкие остатки батальона комбат не поднимает. Это бессмысленно. Когда через час его снова вызвал к телефону командир полка (с тем же вопросом – «Ну, взяли траншею?»), комбат отвечает: – Да, продвинулись метров на сто. – Чтоб к вечеру траншея была наша! – слышит он в ответ.
У командира полка – понятное нетерпение. «Сверху» ему так же, теми же вопросами и в тех же интонациях, «долбит» комдив. Поэтому скоро – очередной звонок. И тот же вопрос: «Ну, как?».
– Метров на пятьдесят ещё продвинулись, – говорит комбат, и я точно знаю, что это святая ложь. Но командир полка требует: – Дай трубку артиллеристу! Чтобы не подводить комбата, отвечаю: – Метров на сорок продвинулись ещё…
Младший лейтенант, бедняга, уже и не рад, что всего за неделю из взводного стал комбатом. Ему жалко поднимать бойцов в бессмысленную атаку. Но командованию до всех этих «деталей» нет никакого дела. Ему важно, чтобы не затухало наше наступление. Бессмысленное и беспощадное – «любой ценой».
Немцы тем временем начинают беспощадно обстреливать наш передний край – минами и снарядами. Десятки, сотни разрывов встают фонтанами земли и болотной грязи. Бесчисленные смертоносные осколки заполняют всё пространство вокруг. Мы с комбатом, его ординарцем и моим связистом втискиваемся в небольшой – всего метр глубиной – блиндажик. Он хоть от осколков, может быть, спасёт. Нас немного успокаивает этот тонкий слой земли над головой. Согнувшись в три погибели, рядком сидим на глиняном лежаке, выступающем от стенки блиндажика, который содрогается при каждом близком взрыве, обсыпаясь землёй с потолка.
Каждый из нас в этот момент про себя молит Бога: лишь бы не было прямого попадания в середину блиндажа! Один из снарядов разворачивает его угол. Солнечный луч врывается к нам под землю. Очередной удар сотрясает стенки. В этот момент мой телефонист – он сидит справа от меня – плавно, но настойчиво просовывает мне под мышку свою руку. «От страха, наверное», – думаю я снисходительно. Но вот его ладонь просунулась наружу – к моей груди. Я поворачиваю голову и вижу: почему-то на ладонь связиста надета… небольшая банка. Как консервная! «Зачем он банку на руку натянул?» – думаю с удивлением и недоумением. Но не темно уже в нашем блиндажике – из развороченного угла солнце светит. Присматриваюсь: никакая это не банка. Это алюминиевый взрыватель! И вовсе не рука телефониста под мышку ко мне залезла – 75-миллиметровый снаряд! А его взрыватель блестит, напоминая консервную жестянку.