
До сих пор улица Ленина носит имя лидера мирового пролетариата, хотя все её параллельные и перпендикулярные соседки зачищаются – в смысле переименовываются. По протяжённости улица Ленина никогда в лидерах не числилась, уступала Карлу Либкнехту, о котором уже мало кто помнит, его тёзке Марксу, а также их земляку Энгельсу (сплошь немчура).
***
18-километровый Ленинский проспект в Запорожье считался самым протяжённым в Европе, но сегодня и он переименован в Соборный. Ржевская километровая улица Ленина меняла названия трижды. До того, как носить имя Ильича, она успела побывать Большой Ильинкой, хотя была чуть ли не вдвое короче Ильинки Малой – сегодняшней улицы Бехтерева, около десяти лет носившей имя Льва Троцкого. До Великой Отечественной улица Ленина именовалась именем Третьего Интернационала.
Этих организаций, международных и отечественного розлива, насчитывается пять (не считая так называемого «Двухсполовинного Интернационала»), с ними со всеми такая путаница! Интернет даёт любопытную справку: «Интернационалов – то есть, международных объединений коммунистических и рабочих партий, было пять. Первый – радикально антироссийский, основан самим Карлом Марксом на митинге в поддержку поляков в их сепаратисткой войне за отделение от России. Второй – в принципе продолжил политику первого, но потом от революционных настроений скатился к «реформистским», за что был осуждён Лениным и другими леворадикалами. Третий основан Лениным с целью сплотить международное коммунистическое и рабочее движение вокруг Советской республики (разогнан Сталиным в годы Второй мировой войны). Четвёртый и Пятый Интернационалы – троцкистские, возникли как оппозиция к контролируемому Сталиным Третьему Интернационалу. Они существуют до сих пор».
В Питере, на Васильевском острове, улицы называются линиями, их штук тридцать, и только четыре из них носят имена: Кадетская, Менделеевская, Биржевая и Косая. Остальные – под номерами. А в Ржеве не счесть номерных Мелиховских переулков. Их бы заменить Интернационалами – так нет же, первый и второй, изобретённые Марксом и Энгельсом, Ленин переработал и дополнил в связи с исторической необходимостью. А «чудесный грузин», как прозвал Иосифа Виссарионовича Владимир Ильич, взял и распустил ленинский Третий Интернационал.
Помните, крестьяне спрашивали у Чапая: «Ты за большевиков али за коммунистов?». Комдив подумал и гордо произнёс: «Я за Интернационал!». Позже Фурманов комдива решил подкузьмить: «Василий Иванович, а ты за какой Интернационал?». Чапай растерялся: «А Ленин был за какой?». И комиссар говорит: «За третий – он его и создал». В борьбе с откровенно троцкистскими четвёртым и пятым интернационалами в ход пошёл ледоруб. В далёкой Мексике сталинские наймиты этим альпинистским инвентарём ликвидировали «иудушку Троцкого».
Улица Ленина в Магадане – самая протяжённая в мире, ей намерили рекордные две тыщи вёрст. Начинается она в столице Колымского края, а заканчивается в Якутске. Чтобы улицу удлинить, в неё включили Колымское шоссе и трассу Колыма – безлюдные и пустынные таёжно-тундровые отрезки. По прямой получилось две тысячи километров – забавный, как сейчас говорят, фейк.
***
Ни в Запорожье, ни, тьфу-тьфу-тьфу, на Колыме побывать не довелось, но я хорошо запомнил улицу Ленина в Уфе, ибо по ней однажды пришлось преодолеть многокилометровый путь зимой, без перчаток и с двумя целлофановыми пакетами пива в обеих руках. Я шёл по ней и не подозревал, какие это архиисторические места, как сказал бы Владимир Ильич.
В октябре 1941-го, когда в наш Ржев вошли немцы, в Уфу был эвакуирован Коминтерн. Ещё одна интернет-справка: «До мая 1943 года в здании бывшего Коммерческого училища на углу улиц Ленина и Революционной работали Пальмиро Тольятти, Георгий Димитров, Клемент Готвальд, Долорес Ибаррури, Морис Торез, Вильгельм Пик и другие руководители мирового коммунистического движения».
Спустя сорок с лишним лет мы с коллегой Славкой, находясь в ответственной командировке, проживали неподалёку – в уфимском общежитии на улице Ленина. Победителя соцсоревнования, лучшего межотраслевого наладчика Славку направили в предновогоднее турне по Сибири и Уралу. Горел годовой, квартальный и месячный план уходящего 1987 года, поэтому Славка капризничал, набивал себе перед начальством цену и выдвигал по пунктам условия. Одним из пунктов было моё присутствие. Я поехал с удовольствием, потому что никогда не был в Сибири и в предновогоднем Предуралье.
В нашей комнате заводского уфимского общежития проживал киевский дед, инженер по прозвищу Патон. Он был каким-то крутым специалистом по электросварке, сидел за столом до полуночи и всё чего-то чертил. Прерывался, чтобы послушать на кухне радио про шахматные новости из Севильи. Там проходил матч-реванш между Карповым и Каспаровым. Дед, как и я, болел за Карпова, который вёл в счёте перед последней партией. Наутро уборщица нам сообщила: «Продул ваш Карпов – и партию, и матч». С расстройства дед Патон снарядил меня за пивом: «Сядешь на трамвай, доедешь до Ипподрома, конечной остановки, там увидишь очередь к пивному ларьку. На завод можешь не ходить, Славка там один справится».
Я не считал, сколько остановок проехал до ипподрома, поэтому на обратном пути вышел из трамвая раньше. Шёл вдоль улицы Ленина около часа, но знакомый дом с общежитием всё не попадался. Решил спросить у башкирского милиционера, как пройти к заводскому общежитию. Он не удивился, что в каждой руке я держал по трёхлитровому целлофановому пакету с пивом. Видимо, у них было принято так его носить. Блюститель только спросил: «Какого завода общежитие?». Вот этого я не знал. Не стал я милиционеру говорить, что на том заводе обрабатывают какие-то титановые лопатки к танковым двигателям.
Перед поездкой в командировку на нашем заводе нас напутствовал инструктор первого отдела. Он предупредил: «Не стоит никому говорить, что мы относимся к авиационной промышленности». Поскольку я был не в курсе, спросил: «А разве мы к ней относимся?». Инструктор вздохнул. Уфимский милиционер не стал дальше уточнять, сказал, что таких общежитий несколько. До искомого мне пришлось идти ещё примерно полчаса.
***
В Омске на улице Ленина мы стояли в очереди в специализированный магазин. В стране был разгул «сухого закона», очередь за вином – как в мавзолей. Стояли со Славкой по 15 минут, как в сменном карауле, грелись в ближайших магазинах. Сибирякам-то не привыкать к морозам, а нам, европейским жителям, было прохладно. Когда наступила очередная смена, Славка пошёл греться в книжный магазин, а вернулся с неизвестной мне книгой Алексея Толстого «Эмигранты», вручил её мне и направился к началу винной очереди.
Стражи порядка периодически запускали внутрь по 10 человек, и в это время у входа происходило замешательство. Славка решил воспользоваться суматохой, пристроился к какой-то даме, обхватил её за плечи и стал подталкивать. Даже не обернувшись, он молвит: «Держись за что хочешь, только внеси меня внутрь – из-за проклятых алкашей третий заход пропускаю».
***
У одного из домов на ржевской улице Ленина лежит камень, который 16 лет назад мне показала Рива Александровна Коршунова, дочь директора Ржевского летнего театра, учитель математики, ученица Варвары Васильевны Вишняковой, супруги краеведа Николая Михайловича. Рива Александровна в то время жила на улице Ленина. «Мало кто знает, – сказала она, – что этот камень – осколок Ильинской церкви». Церковь снесли после войны, мусор убрали, а осколок лежит в самом центре города, на центральной улице, до сих пор. «До войны в церкви находился раймаг, – продолжала Рива Александровна, – слева продавали детские игрушки, напротив – посуду, чуть дальше – всякий ширпотреб. На стенах висела конная упряжь: сбруи, уздечки, сёдла. Слева – ткани, яркие, пёстрые, сказочной расцветки…»
Когда я к ней приходил домой, то приносил с собой три сиреневые книжечки «Ржев на старых открытках», она их без конца листала. Из дома она редко выходила, жила одна, звонила мне в редакцию, говорила: «Жду, ключ от домофона брошу из окна». Домофонного устройства в квартире не держала («Не нужно мне это дурацкое изобретение»). В прихожей у неё висел плакат в пол-стены с изображением тверской певицы, её ученицы (забыл, как зовут).
До войны Р.А. Коршунова жила на Пушкинской набережной, потом, кажется, в доме с овощным магазином, бывшем здании драмтеатра, от неё я слышал, что во дворе этого углового дома находился каретный сарай. Когда её отец стал директором летнего театра, семье дали квартиру на Коммуне, она показывала фотографию гостиницы: «Видите это арочное окно на втором этаже? Здесь мы жили».
Усаживала пить чай, рассказывала такое, чего я не встречал в краеведческой литературе: «Первая воздушная тревога случилась, кажется, во время финской войны. Мы с сестрой шли из школы вечером, после второй смены. И вдруг всё завыло, прожектора вспыхнули, стало светло, хоть шей. Мы побежали домой. К моему портфелю был привязан мешочек – мама связала для чернильницы-непроливайки. Мешочек оторвался, сестра за ним нагнулась, я плачу, кричу: «Да ладно, брось!». К дому подбегаем, слышим: «Отбой!».
В Никольском саду, на детской площадке, стоял огромный деревянный слон. Детвора съезжала по хоботу сверху вниз. Павильон свисал над Банковской горой – красивый, зелёный. Там музыка всё время играла. И столько цветов вокруг!».
***
Вернёмся на ржевскую улицу Ленина, к тому самому камню, осколку Ильинской церкви. Друга я подговорил отколоть на память от камня кусочек. Он охотно согласился: «Мне тоже надо!». У меня есть кирпичик от взорванной ржевской арки, камешки из подвала Бакановского магазина и из провала возле медколледжа, где причт Спасской церкви находился, а позже – мой детсад. А вот железное кольцо из стены, к которому в старину привязывали лошадей, я прозевал. Такие кольца торчат из стены детской библиотеки на Большой Спасской.
Иду как-то мимо древнего дома, в котором мог гостить Гоголь, что так и не доказано краеведами. Ну, не мог Николай Васильевич не приехать в Ржев к своему духовному наставнику – просто не афишировал почём зря. Так вот, приезжает Гоголь к отцу Матвею, а его кучер Селифан привязывает к этому железному кольцу лошадь.
И вот прохожу я как-то вечером мимо такого древнего дома, глядь: рухнул столбик у древней стены и лежит на земле оголённое кольцо. Но его нужно было освободить от тяжелых толстых металлических пластин. И решил я с утра сюда явиться. Не успел – железяки ночью бомжи утащили. Рассказываю другу об осколке Ильинской церкви, он соглашается – надо торопиться, а то туристы растащат на сувениры. Осколок отыскали быстро, он там и лежит, где 16 лет назад мне его Рива Александровна показала. Вовка пошёл домой за молотком и зубилом, а я остался дежурить у камня.
Мимо прошёл (пробежал) Андрей Симонов с табуреткой в руке и какой-то доской под мышкой. Остановился, я ему показал камень. Заинтересовался, осмотрел, побежал дальше, он спешил в клуб ЖД на репетицию спектакля по своему детективу, а табуретка с доской – видимо, реквизит. Вышла из магазина Вера Гладышева. Ей тоже показал осколок Ильинской церкви. Кругом обошла. Осмотрела. Удивилась. Звоню другу Вовке: «Неси быстрей молоток с зубилом, иначе уволокут камень». Принёс. Откалывали долго. Двухвековая кладка трудно поддавалась – это вам не советский раствор на песке, практически без цемента.
***
Пройдём по улице Ленина, вспомним, как она изменилась за последние десятилетия. Начнём с фонтана. Он и днём роскошен, а вечером просто сказочно красив. Здесь неподалёку стоял ларёк с DVD-дисками, фильмами, музыкой. Интернет загубил индустрию на корню. Сегодня видеомагнитофон – это дремучее ретро, а какой-нибудь плеер величиной с ладошку или тот же айфон вмещает столько музыки, что не снилась обладателям пудовых катушечных магнитофонов и двухкассетников, что поминиатюрнее. Всё же многолюднее всего было чуть подальше, где стояли ларьки с горячительными напитками; мужики здесь толклись с открытия до закрытия. Кстати, я там впервые познакомился и подружился с Генрихом Беджаняном, он долго в «РП» работал…
На месте сегодняшней музыкальной школы находился райком. Я его часто посещал по журналистским делам, больше всего запомнилась встреча с одним специалистом по сельскому хозяйству. Мы беседовали о борщевике. Он удивительные вещи рассказывал. Было время, когда за семенами этого зонтичного монстра, коим коров кормили, выстраивалась очередь. В Ржев даже приезжали специалисты из Прибалтики. Я спросил: «И какова была урожайность сельхозкультуры на наших полях?». Он и сам удивлялся: «А вы знаете, не сказать, чтобы без изъяна. Были на полях проплешины, но причину так и не выяснили».
На противоположной стороне улицы Ленина вспоминаются объекты из советской эпохи: «Чепок», «Товары для женщин» и, конечно, «Отдых». Последний со временем преобразовался в бистро. Злые языки называли его шалманом, но ничего подобного – душевное заведение, можно сказать, отдушина. Вот кому оно помешало?!
Но чего зря скорбеть, перейдём к ленинским тротуарам. Тут тоже грустно. На пешеходных дорожках такой же центральной улицы по ту сторону Волжского моста Владимир Абдуалиевич Васильев лично курировал их укладку, будучи депутатом первых созывов Госдумы РФ от Тверского избирательного округа. По его инициативе тротуары преобразились и стали легкопроходимыми. Владимир Абдуалиевич гордился работой, когда приезжал в Ржев: «Вот я прошёл вдоль Большой Спасской – ни одной плитки не повреждено!». Позже он «Единой Россией» вплотную занялся, потом в Дагестане работал – и не до Ржева ему стало. Но если вдруг В.А. Васильев снова выдвинется куда-нибудь, связанное с Тверской областью, обязательно пойду за него голосовать.



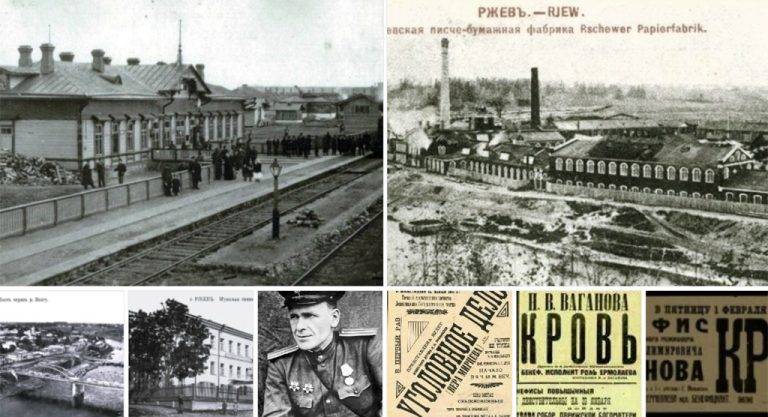
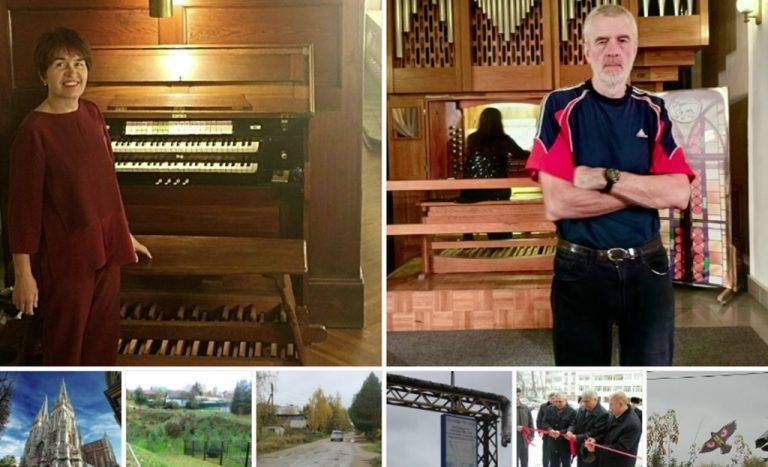




Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.