
Эту центральную улицу Князь-Дмитриевской, или Красноармейской стороны переименовывали дважды – в 1918 году и в начале двухтысячных. Википедия говорит о том, что наша Коммуна никакого отношения к парижской не имеет: «Улица названа в честь демократического органа власти в городе – Ржевской Коммуны. Это был первый после революции орган местного самоуправления».
Цитата из моей статьи, написанной в апреле 2002 года: «Улице Коммуны возвращено прежнее название несколько месяцев назад. Произошло это на одном из заседаний городской Думы без бурных дискуссий, спокойно, можно сказать, буднично. Проголосовали почти единогласно. Кое-кто из депутатов, правда, высказался: мол, неплохо бы проводить по таким вопросам референдумы. Но скольким улицам ещё предстоит вернуть их исторические названия – зачем его утомлять, народ этот».
До развала СССР, до того, как страну охватила лихорадочная эпидемия переименований, Коммун, простых и парижских, у нас было пруд пруди по всей стране – в каждом городе, пригороде и посёлке. Результат всё той же эпидемической лихорадки переименований, случившейся после Великого Октября.
Кстати, свистопляску с переименованиями затеял последний наш царь-батюшка Николай Второй. Ни много ни мало он переименовал столицу государства, первую по численности в империи (свыше двух миллионов человек) и третью в Европе. Решение императора в августе 1914-го, накануне Первой мировой, поменять Санкт-Петербург на Петроград было продиктовано настроениями – патриотическими, а заодно и антинемецкими. И город, носивший имя апостола Петра, стал величаться именем Петра Первого, прапрапрапрапрадедушки Николая Второго.
Говорят, с тех пор коренные жители называют себя питерцами. Когда во множественном числе – ещё куда ни шло, в единственном же «ленинградец» и «ленинградка» произносится куда благозвучнее и короче, чем «петебурженка» или «петербуржец» – даже если к ним пристегнуть этот самый «санкт».
Ленинградом город стал через шесть дней после смерти Ленина, а возвращения исторического имени ему пришлось ждать 73 года. Необходимость переименования мэр Анатолий Собчак, помнится, объяснял населению Ленинграда (да и всей страны) таким образом. Мы, говорил Анатолий Александрович, очень уважаем Владимира Ильича, но у нас в стране есть город Ульяновск – и достаточно. Убедил далеко не всех.
В июне 1991-го состоялись выборы президента страны, а в Ленинграде – ещё и мэра города. В бюллетенях ленинградцам предлагали ответить на вопрос: «Желаете ли вы возвращения нашему городу его первоначального названия – Санкт-Петербург?». Из 3,8 миллионов избирателей на участки явилось 2,45 миллиона. «За» высказались 52% из числа явившихся на выборы. И с шестого сентября Ленинград стал Санкт-Петербургом. То есть, Петра Первого – по боку. Улица Коммуны в Санкт-Петербурге уцелела. Любопытно, что в Москве ни простой, ни парижской Коммуны не было, правда, посёлок Коммунарка в районе Бутова жив до сих пор.
А что в Тверской области? В Торжке и Старице таких улиц нет, в Зубцове и Конакове улицы Парижской Коммуны пока не переименованы. В Вышнем Волочке в 2001 году у местных властей хватило духу переименовать Ленинский проспект, он стал Казанским – в честь взорванного в 30-х годах собора Казанской иконы Божией Матери. А улицы Парижской Коммуны и Коммунарку в Волочке не тронули. Моя жена, вышневолочанка, говорит, что улицу горожане называют сокращённо Паркоммуны, в детстве она думала, что название связано с баней, на ней расположенной.
***
Пройдем по ржевской Спасской. Обойдёмся без определения «большая», ибо перепутать её не с чем – улицу имени Грацинского, первого ржевского военкома (комиссара), едва ли переименуют в Малую Спасскую, коей она когда-то была. Начнём с центра улицы, с детской библиотеки. «Библиотека – души аптека», – так назывались традиционные агитационные беседы с детьми в этом книжном храме. Не раз на встречу с детьми сюда приглашали Якова Иосифовича Гуревича, руководителя музыкальной школы – как одноклассника Паши Савельевой, героини Луцкого подполья.
Школа №3 располагалась в нынешнем здании детской библиотеки, и музыкальная школа №1 находилась здесь же, на Коммуне – Большой Спасской. На здании детской библиотеки – две мемориальные доски. На одной плите высечено имя ржевского купца Павла Мясникова, он в 1897 году завещал этот дом на общественные нужды города. Другая мемориальная доска сообщает о том, что в этом доме с 1930-го по 1936 год, на тот момент в школе №3, училась Паша Савельева. В августе 2025-го имя нашей героической землячки присвоили СОШ №3, но то другая школа.
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича тоже когда-то располагалась на Коммуне. А один из её филиалов с 2002 года занимал второй этаж левого крыла здания Ржевской епархии. Позже ДМШ переселилась на улицу Ленина. Библиотечные работницы, аптекари душ, заперев детскую библиотеку, относили ключи в здание напротив, где располагалась парикмахерская. Там ставили библиотеку на сигнализацию. Сегодня на Большой Спасской парикмахерских и аптек в разы больше, чем было на Коммуне. Кто-то из местных краеведов говорил мне, что так называемый Чёртов дом на Коммуне до революции имел такой же внешний вид, как и особняк Павла Мясникова. Возможно, он ему же и принадлежал. А лишился ЧД всех архитектурных излишеств якобы после надстройки третьего этажа.
Очень может быть. Читаем исполкомовские заветы к столетию Ленина: «На надстройку третьих этажей по ул. Коммуны выделить дому №20 12 тыс. рублей, дому №6 – 20 тыс. рублей». И послушаем, как выступающие бичевали себя на 15 сессии второго созыва Ржевского городского Совета депутатов трудящихся: «Совсем плохо мы выглядим по выполнению плана свинооткорма… Зачастую на предприятиях общепита продукция пивзавода отсутствует, особенно в праздничные и выходные дни… Для наших школ недостаточно выпускается сарделек, о сосисках уж и не говорю».
***
Сегодня пива навалом, сосисок и сарделек завались, аптек и парикмахерских переизбыток – стригись и не хворай; количество маркетплейсов типа «Озон» зашкаливает, и Большая Спасская в этом смысле самая озонированная. Мало кто помнит, что в здании Ржевской епархии находилась вечерняя школа №2.
Я учился в девятой, что на Пионерской. Однажды подходит учитель и просит во время его урока сбегать во вторую школу, передать в учительскую театральную афишу. «Они в курсе, там скоро будет наш спектакль. Знаешь, где вторая школа?». Я не знал. Учитель посоветовал спросить у прохожих, и я помчался. Прохожие указали мне на вторую вечернюю. Директор долго крутила афишу, потом спросила: «А куда тебе велено это доставить?». Потом рассмеялась и начертила мне подробный маршрут к школе на улице Партизанская. Кстати, театральные афиши трех гастролировавших театров – кимрского, вышневолоцкого, калининского – величиной с человеческий рост висели на домах вдоль Коммуны в нижнем её течении.
Едва ли ржевитянки, наводившие красоту в салоне «Фарма Vita» (говорят, он больше не работает) подозревали, что в этом здании в эпоху перестройки торговали товарами местной промышленности. А напротив находился прокат. Мы там брали пианино. Фортепьяно – капризный инструмент. И очень тяжёлый. Когда мы его возвращали, разгрузив впятером, у него отвалилась задняя стенка. Кое-как присобачили, заволокли внутрь, прислонили к стене. Сотрудница долго проверяла пальчиком каждую клавишу, чёрную и белую. Я опасался, что стенка отвалится, и напомнил тётеньке: «Когда мы год назад забирали пианино отсюда, вы почему-то так тщательно его не проверяли». Не обратив внимания на мои слова, перещупала все диезы и бемоли, но заднюю стенку не приметила.
***
Во времена, когда в стране работали так называемые уличные комитеты, пожилой уличком Мария Ивановна Виноградова свидетельствовала, что на месте танка до революции работали кузницы, а на месте «Юбилейного» был пруд. Не тот ли это чёрный загадочный пруд, откуда домашние гуси выскакивали, а будто мазутом перепачканные, но самые чистоплотные в мире животные – лошади – эту воду пили с удовольствием.
А ещё в доме, где располагался магазин «Юбилейный», проживал Юрий Иванович Беляев, служивший в Москве в составе сводного военного оркестра, участник двенадцати парадов на Красной площади. Четырнадцатилетним пацаном Юра оказался в той самой заминированной церкви, куда немцы в 1943-м согнали жителей, когда уходили из Ржева. Ушедший на фронт отец Юры пропал без вести, мать умерла во время оккупации. В 1944-м заведующая гороно устроила сироту в воинскую часть на «Склад-40». Юрий Иванович выучился там играть на трубе. С ним меня познакомил его сосед, наш фотограф.
Мы его еле убедили рассказать о себе. Ругался: «Я уже не играю на трубе, на заводе травму глаза получил, врачи запретили». Но разговорился, и футляр с трубой достал-таки из-под кровати и сыграл… Газету со статьёй о Юрии Ивановиче мы неожиданно увидели в павильоне ВДНХ в Москве. А изданий там было – легион.
Александр НАЗАРОВ.
Фото автора.



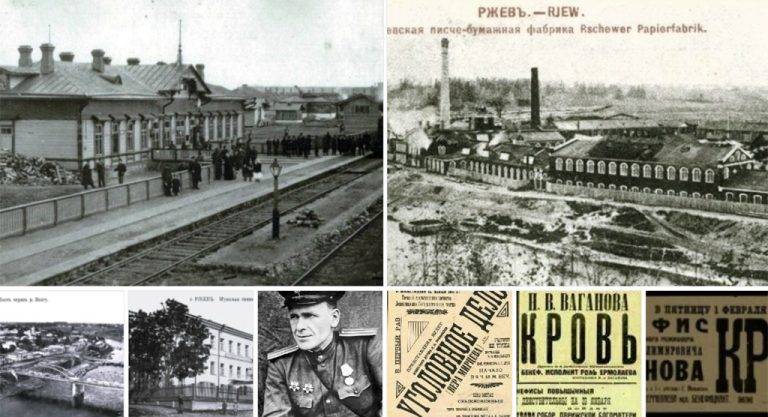
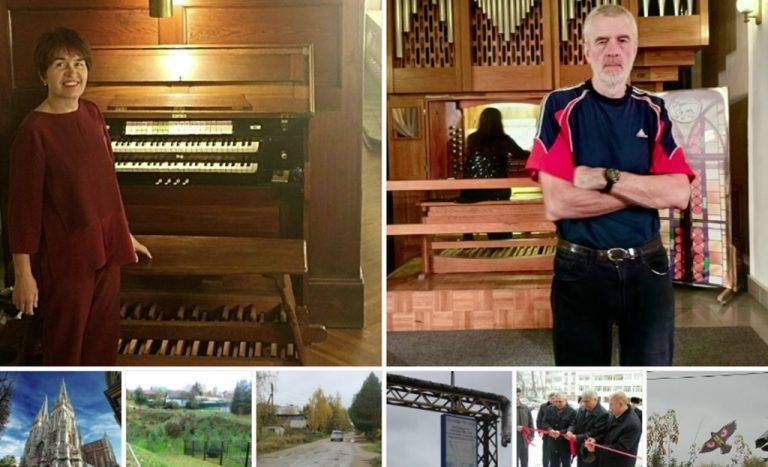




Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.